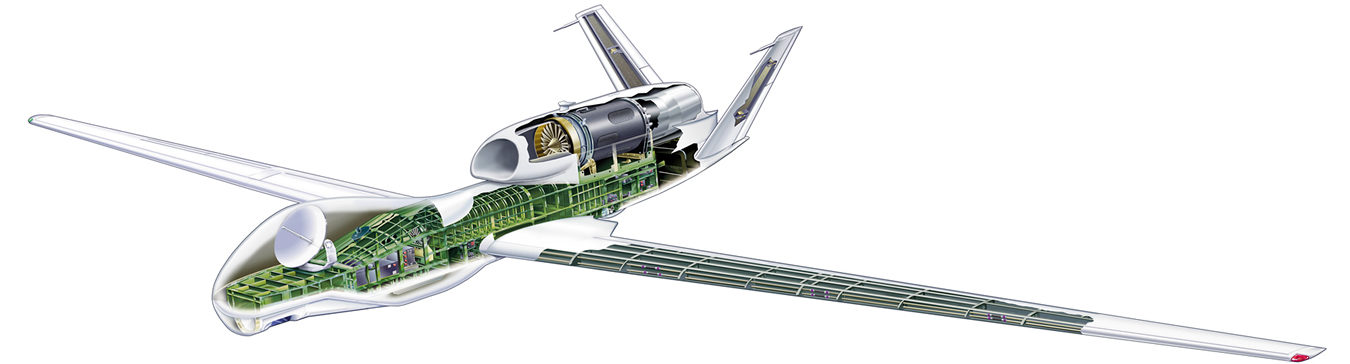Часть 1
В 1963 г. заслуженный летчик-прекрасный рассказчик и испытатель Марк Лазаревич Галлай порадовал читателей новой книгой «Испытано в небе». В главе, посвященной летной этике, он с ехидцей, но кротко поведал о неком «конструкторе С.», вынудившем лучших пилотов помучаться в бесплодных попытках поднять в небо его детище – умелый истребитель, похожий на И-16. Покров щекотливой тайны с фамилии незадачливого создателя «чудо самолета» снял спустя полтора десятилетия Вадим Борисович Шавров, дав во втором томе собственного известного труда следующую чёрта разработчика истребителя И-220 (либо «ИС»):
«Среди советских конструкторов и всех русских А. В. Сильванский был явлением достаточно необыкновенным и для отечественного строя нетипичным».
Еще через двадцать лет Галиевич и историк Султанов красочно обрисовал эпопею Александра Васильевича Сильванского, сумевшего за счет поразительной напористости и родственных связей с тогдашним наркомом авиапромышленности М. М. Кагановичем (братом того самого Лазаря Моисеевича – участника Политбюро) взять задание на разработку истребителя, раздобыть подходящий проект Николая Николаевича Поликарпова и занять должность главного конструктора новосибирского завода N2153. Практика как критерий истины расставила все по своим местам.
Чужой проект, загубленный безграмотными доработками «Остапа Бендера от авиации», воплотился в нелетающий истребитель. Не смотря на то, что историк авиации Николай Васильевич Якубович, основываясь на собственных долгих тщательных архивных изысканиях, поставил под сомнение безотносительную «нелетучесть» И-220, сути дела это не меняет.
По окончании обнаружения полной несостоятельности конструктора Сильванского, по формулировке В. Б. Шаврова, «деятельность его в авиации закончилась». М. Л. Галлай приводил свидетельства людей, встречавших Сильванского уже в качестве инспектора мельниц. И. Г. Султанов высказал предположение о предстоящей деятельности Сильванского в ракетостроении под управлением С. П. Королева.
В действительности, согласно документам за подписью самого Сильванского, он «брал выше», стремясь к положению, позднее занятому самим Королевым.
Ниже приведем пара цитат из обращений Сильванского в разные инстанции, ярко характеризующие его личность и словно бы вышедшие из-под пера Михаила Зощенко.
Угрызения совести не тревожили душу Александра Васильевича и в середине 1940-х гг. он отыскал пристойное объяснение как довоенному провалу, так и собственной плохой репутации, сложившейся у наркома авиапромышленности А. И. Шахурина и его помощника по умелому самолетостроению – А. С. Яковлева. Сильванский ни в мельчайшей мере не связывал это со своим соответствием, а правильнее – несоответствием занимаемой должности главного конструктора и представил себя жертвой событий:
«Моя прошлая работа в совокупности НКАП в должности главного конструктора умелого истребителя И-220 при прохождении летных опробований… потерпела фиаско. В один момент были сняты три умелых истребителя – И-220, И-180 Поликарпова и истребитель Яценко благодаря якобы бесперспективности моторов воздушного охлаждения «двухрядная звезда». Роспуск ОКБ встретил мое сопротивление, что навлекло преследования т.т. Яковлева А. С. и Шахурина А. И.»
Очевидно, о том, что в отличие от вторых перечисленных автомобилей, И-220 просто не смог толком оторваться от почвы из-за недостаточной тяги винта, волюнтаристски уменьшенного главным конструктором, Сильванский разумно умолчал.
Не обращая внимания на недоступность авиапромышленности для предстоящей деятельности Сильванского, мечта о полете не оставляла его, что вызывает если не уважение, то сочувствие. С возникновением беспилотной техники открылась новая лазейка для возвращения в небо.
В отстаивании собственной значимости как ракетостроителя Сильванский опирался на несколько рефератов, каковые он составил по зарубежным статьям о воздушно-реактивных двигателях и «Фау-2» и направил курировавшему авиацию участнику политбюро Г. М. Маленкову. Проведав о том, что «Фау-2» обязан заниматься Народный комиссариат снарядов, Сильванский в июле 1945 г. попытался внедриться в это ведомство. Но своеобразная репутация главенствовавшего конструктора И-220 осложнила первые переговоры с его заместителем и наркомом.
«Ванников Б. Л. и Горемыкин П. И., – писал Сильванский, – настроены в отношении меня отрицательно. Так, тов. Горемыкин П. И. заявил мне, что с моим приходом на работу в НКБ начнется для него, Горемыкина П. И., «нервомотание».
Тов. Ванников Б. Л. и Горемыкин П. И. не знали тогда моих свойств как организатора и специалиста, следовательно, их отрицательное отношение позвано тенденциозным отрицательным отзывом т. Шахурина А. И. Так новый путь работы, избранный мною, вся моя честное горячее и подготовка желание трудиться с присущей мне энергией – все было снято и испачкано одним дуновением т. Шахурина А. И.. Казалось, незримый дух преследований т. Шахурина А. И. витал нужно мною».
В те годы в правительстве оборонную тематику курировал помощник Главы Совета народных комиссаров СССР Лаврентий Павлович Берия, имя которого кроме этого связывалось и с «правоохранительными органами», что придавало особенную неотвратимость принятым им ответам.
Сильванский решился обратиться с письмом к Берии и добился встречи с ним:
«Лаврентий Павлович принял меня 17 сентября 1945 г. и в беседе указал на следующее:
а) я обязан приступить к организации коллектива КБ на заводе №70;
б) в указанном исполнении работ не будет иметь место волны нападок, хлынувшие на меня из НКАП;
в) по окончании того как я освоюсь на заводе №70 с обстановкой, я обязан представить тов. Берия Л. П. предложения о постановке производства ракет «Фау-2» на заводе №70.
Указания тов. Берия Л. П. были выполнены …
Я не имел намерений проигнорировать собственных начальников либо держаться особняком, а напротив, искал помощи и управления с их стороны. По окончании приема тов. Берия Л. П. … я думал, что смогу с присущей мне энергией приступить к организации конструкторского коллектива на заводе №70 и к подготовке развертывания конструкторских и производственных работ по «Фау-2».
Но последующая реальность была другой. Тов. Ванников Б.Л. направил меня на завод №70 без назначения на какую-либо руководящую должность. Так была обесценена моя роль в громадной и нужной работе.
отнять у меня прав, т. Ванников Б.т Л. отнять у меня возможности выполнить указания т. Берия Л. П. по организации КБ. Приобретаемый мною ранее персональный оклад не только не был сохранен, но напротив, был снижен.
Я ни при каких обстоятельствах в собственной жизни не сделал ничего нехорошего т.т. Ванникову Б. Л. и Горемыкину П. И. ни с личной, ни с производственной стороны. В моих предложениях могли быть неточности либо неточности, растолковываемые тем, что я не был в Германии и не мог лично видеть …
Директором завода т. Пригульский Г. А. я был включен в перечни, но тов. Горемыкин П. И. вычеркнул мою фамилию в перечне.
Это была уже вторая незаслуженная моральная пощечина, нанесенная мне в ущерб делу.
Скромные, действительно, результаты моей работы на заводе №70 имеется. Коллектив КБ вырос с 10 человек до 60. Выполнены конструкторские работы по созданию плазов силовой установки ракеты.
Создан предварительный проект схемы кооперирования производства «Фау-2» в пределах СССР».
Представленные Сильванским предложения очевидно сформировались под впечатлением организации выпуска «Фау-2» в Германии. В качестве главного центра производства баллистических ракет Сильванскому виделся громадный подземный завод наподобие Нордхаузена, но размещенный где-нибудь на Урале либо Алтае – подальше от баз возможного соперника. Осознавая, что кроме того при практически неограниченных возможностях Берии по привлечению «особого контингента» в качестве рабочей силы строительство для того чтобы циклопического сооружения потребует большого времени, в качестве серийного предприятия на первых порах предлагалось привлечь боеприпасный завод в западной Сибири, а выпуск малой серии поручить заводу №70.
Создание научно-конструкторской базы кроме этого планировалось в два этапа: сперва – КБ на заводе №70 и НИИ на Воробьевых горах в Москве, а после этого – уход под почву с созданием научных и проектных организаций в комплексе с уже упоминавшимся перспективным серийным заводом в горных штольнях на Урале либо Алтае.
Вместе с этими предложениями Сильванский направил Булганину кроме этого процитированную выше кляузу на собственное управление, охарактеризовав собственную работу в совокупности Народного комиссариата снарядов как
«иллюстрацию нерадивого отношения управления НКБ к вопросам реактивной техники».
Горя огнем мщения, Сильванский послал копии этих материалов своим начальникам, сопроводив их проектом совместного обращения Б. Л. нового и Ванникова министра авиапромышленности Михаила Васильевича Хруничева к Лаврентию Павловичу с предложениями по кандидатуре главного конструктора по воспроизведению «Фау-2».
В проекте обращения отмечалось, что
«профиль главного конструктора «Фау-2» пара отличается от простого технического профиля главного конструктора, поскольку «Фау-2» имеется спроектированное, выстроенное и испытанное в боевых условиях изделие».
С учетом этого Сильванский предлагал Хруничеву и Ванникову представить его кандидатуру как главенствовавшего конструктора, эксперта,
«частично освоившего конструкцию «Фау-2», человека, владеющего «энергией и организаторскими способностями».
В качестве помощника по двигательным установкам предлагался В. П. Глушко. Возможность выдвижения Глушко на должность главного конструктора отстранялась под предлогом отсутствия у Валентина Петровича
«опыта в производстве и трудоёмком конструировании»,
в управлении проектно-конструкторскими коллективами. Как помощники по приборному оснащению рассматривались Б. Е. Черток и Н. А. Пилюгин. По всей видимости, фамилия Николая Алексеевича была известна Сильванскому лишь на слух, так что он писал ее как «Пелюгин».
Но к этому времени наверху вызревали решения, не требующие привлечения на роль главного конструктора «Фау-2» личности, все преимущества которой (кроме того по его собственной самооценке) сводились к инициативе и энергии.
Казалось бы, неоспоримое «право первой ночи» с красавицей «фау» принадлежало Министерству сельскохозяйственного машиностроения (МСХМ), как с марта 1946 г. начало именоваться ведомство, приютившее хозяйство бывшего НКБ и фабрики по производству в полной мере мирной сельхозтехники. Но это положение неожиданно выяснилось оспорено, что, как принято вычислять, было связано с сосредоточением главных упрочнений МСХМ на реализации ядерного проекта.
Но создание ядерной бомбы было поручено надведомственным структурам – Первому №1 главному и Госкомитету управлению, каковые завлекали для выполнения конкретных работ нужные фирмы независимо от их подчиненности разным министерствам. Возможно, еще в осеннюю пору 1945 г. было издано постановление о переводе лично Ванникова в Государственный комитет №1, но это кадровое перемещение ни в коей мере не должно было очень плохо сказаться на работе Минсельхозмаша либо понизить значимость этого ведомства.
В действительности, изменение замыслов распределения работ определялось тем, что с конца 1945 г. кроме традиционно связанных с «катюшами» миномётного вооружения и наркомов боеприпасов германскими ракетами заинтересовался весьма энергичный и инициативный нарком оружия Д. Ф. Устинов. Организациями руководимого им ведомства были созданы лучшие в мире артиллерийские совокупности. Парадоксально, но именно это неоспоримое достижение покинуло отрасль без возможностей развития.
Еще относительно юный, сорокалетний Устинов оперативно отреагировал на начавшуюся научно-технической революцию в армейском деле. Главное внимание перемещалось с классических видов оружия и техники на ядерное и управляемое оружие, радиолокацию, вычислительные средства. А в части простой артиллерии, как продемонстрировали свершения второй половины XX века, принципиальные новшества удалось внедрить лишь по двум направлениям – при создании гладкоствольных противотанковых и танковых пушек, и при разработке сверхскорострельных малокалиберных зенитных и авиационных совокупностей.
Внимание Д. Ф. Устинова к ракетной технике не было пламенной любовью с первого взора. На уже упомянутом совещании Национальной рабочей группе по реактивной технике 25 июля 1945 г. он взялся лишь за энергично-реактивные снаряды – простые артиллерийские боеприпасы, но снаряженные маленьким пороховым ракетным двигателем, дополнительно разгоняющим его по окончании вылета из ствола. На последующем августовском совещании рабочей группы он показал готовность приступить кроме этого и к работам по наземным средствам зенитных ракетных комплексов, конструктивно родным к простым зенитным пушкам.
Но в конце 1945 г. отношение Дмитрия Федоровича к ракетам радикально изменилось. Предусмотрительно оценив перспективность ракетного оружия, Устинов по собственной инициативе 30 декабря 1945 г. приказом №463 организовал на артиллерийском заводе №88 в подмосковном Калининграде (станция «Подлипки», сейчас – город Королев) КБ по так называемой «новой технике» во главе с конструктором-артиллеристом П. И. Костиным.
Завод №88 появился в 1942 г. по окончании ликвидации яркой угрозы захвата Москвы немцами. Разместили его в уже имеющихся корпусах на территории, ранее занятой эвакуированным в Свердловск заводом №8, созданным в начале Гражданской войны с привлечением вывезенных из Петрограда оборудования, инженеров и рабочих древнего артиллерийского завода «Арсенал». В довоенные годы на заводе №8 трудился наибольший коммунистический конструктор артиллерийского оружия В. Т. Грабин.
В послевоенный период для Грабина выделили территорию на противоположной стороне Ярославской железной дороги.
Так, к освоению германского ракетостроения, кроме официально привлеченного Б. Л. Ванникова, практически подключился и не меньше влиятельный Д. Ф. Устинов. Соответственно, сформировались два технических центра, куда из Германии отправлялись эшелоны с документацией и трофейными образцами, – боеприпасный артиллерийский №70 завод и завод №88.
Весной 1946 г. на заводе №88 констру
Испытания стрельбой дальнобойных ракет ФАУ-2 (1947)
Увлекательные записи:
- Испытано в сша. советские истребители в ввс сша часть 3
- Приключения принца иогана альбрехта мекленбургского. эпизод девятый. и бысть сеча зла и ужасна.
- Скрипач не нужен, или аи про хороший т-26
Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны:
-
Испытано в ссср. баллистическая ракета v-2/р-1 часть 1
самый заинтересованным германской ракетной, либо (как ее тогда именовали) реактивной техникой, был Народный комиссариат авиапромышленности. Именно это…
-
Испытано в ссср. истребитель north american f-86 sabre и хроника рождения окб-1
История советской авиации содержит много увлекательных страниц, одна из которых — попытка копирования американского истребителя F-86 «Сейбр»,…
-
Баллистическая ракета а-4 (фау-2)
Работы над баллистической ракетой в Германии начались задолго до Второй мировой. В Версальском соглашении не было совершенно верно указано, что ракеты…
-
Весной 1976 г. на аэропорте НИИ ВВС показались два маленьких самолета. Опробования боевых автомобилей было тут делом простым, но оба новичка тут же…
-
Испытано в ссср. танкетка tk-s и легкий тягач c2p
С конца 30-х годов испытатели в подмосковной Кубинке начали приобретать «на пробу» образцы трофейной техники из различных уголков мира. Первенцами стали…
-
Испытано в ссср. средний танк m4a2(76)w
В первый раз американцы задумались об оснащении Medium Tank M4 более замечательным оружием еще в сентябре 1941 года. Годом позднее начались испытания по…